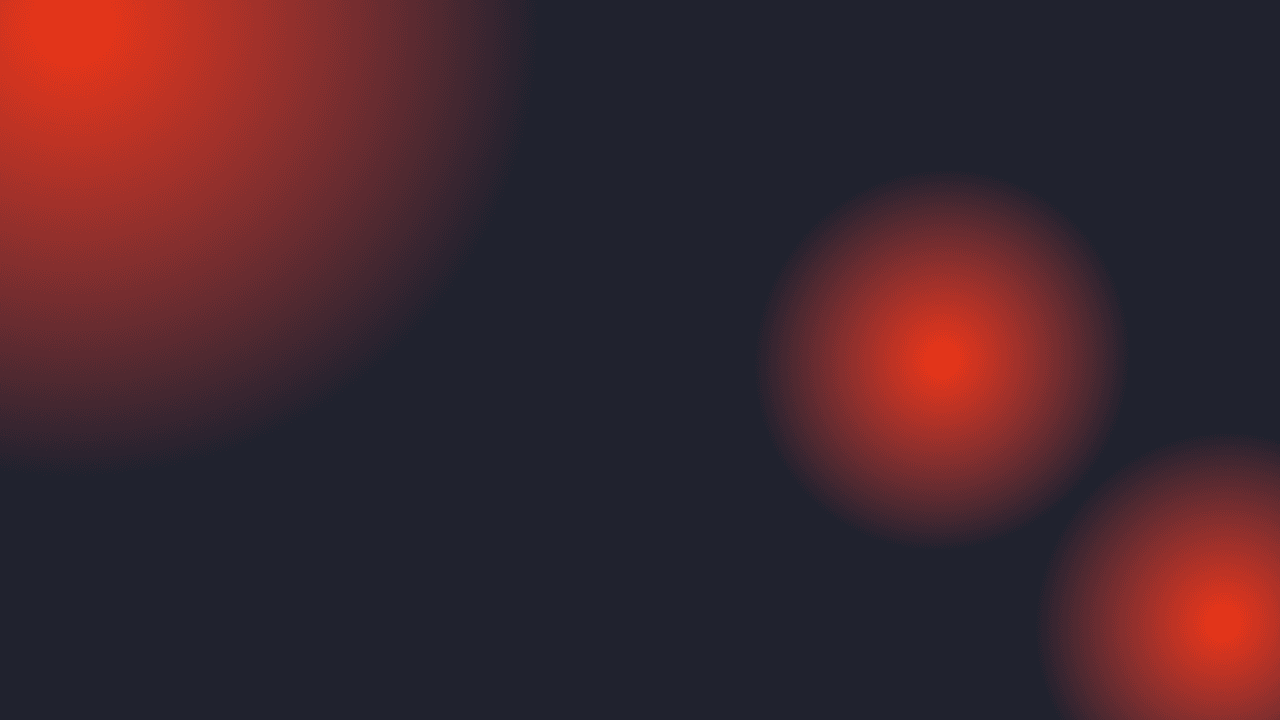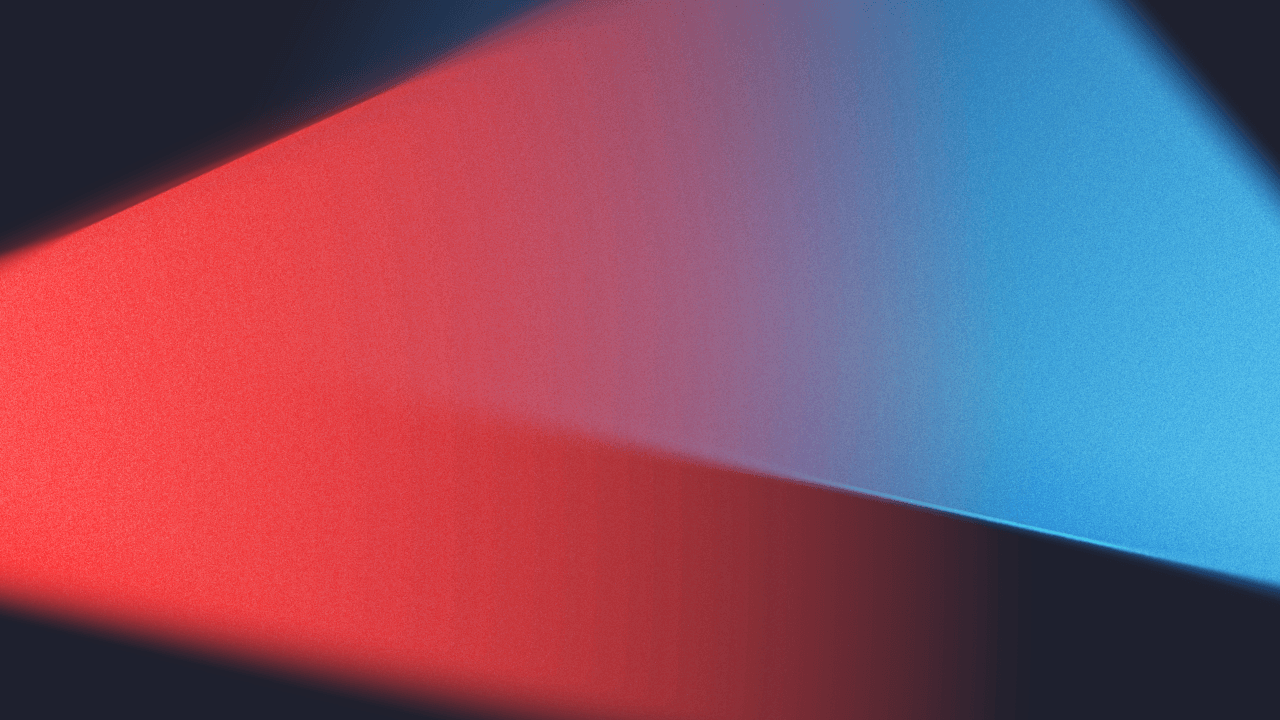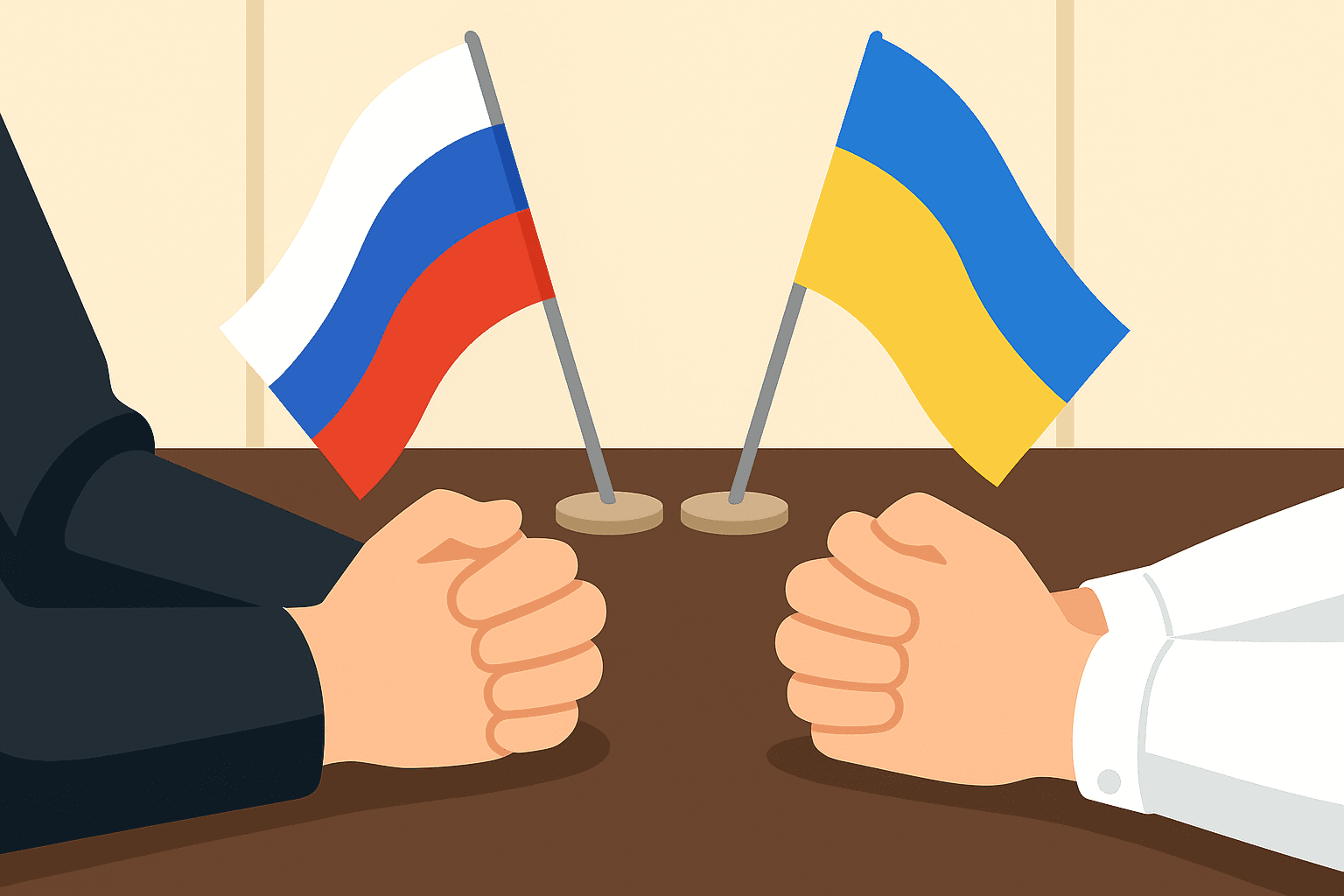24 июн 2023
Чем грозит режим КТО
Примеры из практики Мемориала

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Оглавление
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по «тыловым лагерям» наемников и заявил о походе на Москву. В ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела о призывах к мятежу, а в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим «контртеррористической операции» (КТО). Рассказываем, что значит этот режим и чем он грозит.
Согласно ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму», местные власти и силовики могут:
Согласно ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму», местные власти и силовики могут:
- Прослушивать телефонные переговоры и отслеживать любые контакты через интернет.
- Отключать связь — в том числе интернет.
- Проникать в любые дома и объекты — «для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом».
- Ограничить или запретить продажу оружия и всего «опасного» — в этом списке есть и взрывчатка, и алкоголь.
- Проверять у людей документы, удостоверяющие личность, а если их нет — доставлять в полицейские участки для установления личности.
- «Удалять» людей и автомобили с «отдельных участков».
- Использовать автомобили, принадлежащие организациям или гражданам, чтобы доставить кого-то в больницу или для погони за террористами.
- Временно отселять жителей с территории в безопасные районы. Временное жилье должно быть предоставлено — это может быть и дом, и палаточный лагерь.
- Проводить досмотр при въезде/выезде (в том числе пешем) граждан, их авто и вещей.
Юристка Центра «Мемориал» Татьяна Глушкова пояснила: в законе написано, что немедленному обнародованию подлежит не только сам приказ о введении КТО, но и перечень применяемых мер. «На сайте НАК этого перечня мне найти не удалось. То есть КТО есть, а списка конкретных ограничений нет», — отмечает она.
Режим КТО может де-факто означать беспредел и приводить к серьезным последствиям. Ниже — примеры из практики Мемориала.
Стал инвалидом во время КТО
«Этот режим фактически открывает законный путь к крайне жёстким действиям в отношении, том числе, гражданских, — говорит Глушкова, — В России и так очень сложно привлечь представителей силовых структур к ответственности за незаконные действия. А в ходе режима КТО это будет практически невозможно».
Яркий пример: история жителя села Сельментаузен Веденского района Чечни Кури Ширваниева, который даже не знал о режиме КТО — и которого чуть не убили.

Дорожный указатель на село Сельментаузен, Чечня. Фото: RFE/RL
Утром 31 мая 2016 года 47-летний Кури Ширваниев вместе с сыном Мовсуром и односельчанином Асвадом Хаджимурадовым шли к стойбищу, где в теплое время года пасётся скот. У Кури было с собой двуствольное охотничье ружьё «ИЖ-27» и документы на него. Мовсур и Асвад несли продукты и бензин для генератора, установленного в домике пастухов.
Когда мужчины отошли от села примерно на два километра, Кури заметил в стороне от дороги, метрах в 200–300, военного в полевой форме с автоматом. Тот не подавал никаких знаков и команд, и Кури со спутниками продолжили путь.
В этот момент по ним открыли огонь. Одна из пуль попала Кури в живот.
После этого огонь прекратился. Военные приказали мужчинам подойти к ним с поднятыми руками. Кури был ранен, поэтому не мог подойти. Мовсур и Асвад подошли. Мовсур закричал, что его отец ранен. Военные приказали им лечь на землю. Мовсур попытался спросить у одного из военных, что с отцом, но тот закричал ему «заткнись!» и ударил прикладом автомата по голове.
Военные вызвали на место происшествия вертолет. На нем Кури доставили в Грозный, в медико-санитарный батальон войсковой части № 6788. Мовсура и Асвада отвезли в воинскую часть недалеко от села Сельментаузен. Их отпустили через 1–2 часа. Никому не предъявили никаких обвинений.
Кури попал в реанимацию, затем ему сделали несколько операций. В 2017 году мужчине установили инвалидность второй группы.
Следствие семь раз отказало в возбуждении уголовного дело на военных, которые выстрелили в Ширваниева.
В материалах доследственной проверки также нет никаких документов, которые бы свидетельствовали, что 31 мая 2016 года в районе села Сельментаузен проводилась КТО и тем более — что о ней предупреждали местных жителей. Зато есть документ, в котором говорится: все односельчане Кури, кроме одного, «приняли сторону Ширваниева».
Они отказались давать показания о том, что их якобы предупреждали о КТО и о том, что ходить на пастбище в этот день небезопасно.
«В обычных ситуациях представители силовых структур хотя бы пытаются придумывать какую-то историю и оправдание, — отмечает Татьяна Глушкова. — А во время КТО, как в случае с Ширваниевым, они говорят: “Ну да, он шёл, мы сказали стой, кто идёт” и выстрелили в него». Хотя они и этого не говорили, судя по всему».
В июне 2022 года Европейский суд по правам человека присудил Кури Ширваниеву компенсацию в размере 40 тысяч евро. Дело вели Татьяна Глушкова и адвокат Султан Тельхигов.
Получить деньги Кури уже не смог, так как власти России не выплачивают компенсации, присужденные ЕСПЧ после 15 марта 2022 года.
Поселок Временный
С 18 сентября по 26 ноября 2014 года до трёх тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках КТО провели беспрецедентную по срокам и последствиям «зачистку» в поселке Временный Унцукульского района Дагестана. Население поселка — около тысячи человек. Люди проживали в двух пятиэтажных и восьми трехэтажных многоквартирных домах, а также в нескольких десятках одноэтажных частных домов. Посёлок основали во время строительства Ирганайской ГЭС (1977–2001 гг.) для проживания в нем строителей.
В первые дни операции всех жителей посёлка свезли на автобусах в импровизированный штаб силовиков, где подвергли так называемой «фильтрации» — процедуре идентификации. Затем всех мужчин заставили немедленно покинуть посёлок. За ними в течение десяти дней постепенно вынудили выехать и абсолютное большинство женщин и детей. Взять с собой вещи и тёплую одежду им не позволили.
Больше двух месяцев люди ютились у родственников и на съёмных квартирах, а 26 ноября, вернувшись домой, поразились масштабу ущерба.
Их дома сильно разрушили или полностью уничтожили, имущество разграбили или испортили. Силовики в поисках «бункеров» с боевиками перекопали экскаваторами весь посёлок и снесли сады.
С тех пор жители посёлка добивались компенсации и привлечения к ответственности силовиков за превышение полномочий. С 2016 года им в этом помогали юристы Мемориала.
Лишь в 2019 году, спустя пять лет судебных тяжб, они наконец получили выплаты.
«По опыту проведения КТО, например, в поселке Временный, мы понимаем, что она может длиться долго, — говорит адвокат Марина Агальцова. — Во Временном она длилась с начала сентября по 26 ноября. В других районах Дагестана режим затягивался на годы. То есть все даже забывали, что КТО вводили, а через пару лет оказывалось, что ее так и не завершили».
КТО, которой нет
Пример такой «забывчивости» — задержание журналистов в Дагестане. В июне 2020 года в Хасавюрте задержали сотрудника газеты NRC Handelsblad Стивена Дерикса, фотографа Константина Саломатина, оператора и помогавшего им местного жителя. Группа журналистов снимала сюжет о ситуации с коронавирусом в республике. Им вменили нарушение режима КТО (ст. 20.27 КоАП).

Журналист Стивен Дерикс. Фото: соцсети
Полицейские ссылались на приказ начальника управления ФСБ по Дагестану «О проведении контртеррористической операции в пределах территорий городов Хасавюрт, Кизилюрт, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов Республики Дагестан» от 20 марта 2018 года. При этом публично никто не объявлял ни режим КТО, ни его снятие. Никаких ограничений, которые подразумевает такой режим, в этих районах не было. Местные жители ничего об этом не слышали.
По мнению журналистов и представлявших их юристов Мемориала, режим КТО был предлогом, чтобы помешать журналистской работе. Ситуация с COVID-19 в Дагестане была одной из самых тяжелых в регионе, и сотрудники полиции пытались помешать ее освещению.
Юристам удалось перенести суд в Московскую область по месту прописки одного из журналистов. Мировой судья снял все обвинения. «Тогда мы повозились с обоснованием того, что КТО не было. Потому что ввести-то его вводят, но потом как с мобилизацией — “забывают" отменить», — поясняет юристка Наталья Морозова.